 Предварительная запись:
Предварительная запись: 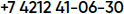 (с 08:30 до 16:00 в рабочие дни)
Как записаться
(с 08:30 до 16:00 в рабочие дни)
Как записаться
 Предварительная запись:
Предварительная запись: 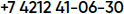 (с 08:30 до 16:00 в рабочие дни)
Как записаться
(с 08:30 до 16:00 в рабочие дни)
Как записаться

Фото: i.ytimg.com
Хирург-онколог Алексей Карачун – об обстановке на переднем крае битвы со злокачественными новообразованиями желудка
До того как возглавить отделение опухолей желудочно‑кишечного тракта в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, выпускник Военно‑медицинской академии им. С.М. Кирова Алексей Карачун отслужил несколько лет военврачом на дальневосточных рубежах Родины, затем вернулся в Питер, практиковал в торакоабдоминальном отделении Ленинградского областного онкодиспансера, занимался наукой, преподавал в своей альма‑матер. Полковник медицинской службы запаса, профессор СЗГМУ им. И.И. Мечникова с армейской прямотой рассказал Vademecum о своем видении тактики и стратегии борьбы против рака желудка.
«РАННИЙ РАК ЖЕЛУДКА – СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА»
– Насколько корректно утверждение о том, что в лечении злокачественных новообразований желудка онкологи пока не сильно преуспели?
– Смотря кого слушать. Меня, как хирурга, популяционные показатели – заболеваемости, смертности и так далее – волнуют мало, я в них ничего не понимаю и повлиять на них не могу. Хирург имеет дело с реальными пациентами и, образно говоря, находится на линии фронта, берет в прицел врага в виде вполне конкретной опухоли, появившейся в его поле зрения. Все, что происходит в тылу врага, подвозят тому снаряды или нет (когда, как и почему она развилась, какие факторы могли повлиять на ее развитие, можно ли было теоретически предотвратить ее развитие) – это дела разведки, космических войск, кого угодно еще. Я занимаюсь лечением совершенно конкретных пациентов. У меня нет машины времени, чтобы отлететь на несколько лет назад и изменить ситуацию, поэтому не могу говорить о скрининге профессионально – этим занимаются люди, изучающие эпидемиологическую ситуацию, научно разрабатывающие программы скрининга тех или иных опухолей и оценивающие эффективность этих программ. Я готов отвечать за то, на каком уровне конкретному обратившемуся за помощью пациенту мы можем провести диагностику, распланировать лечение и какое наблюдение рекомендовать.
– А на каком этапе обычно к вам попадают пациенты?
– На самых разных. Все же ранний рак желудка – это, как правило, случайная находка: пациент обратился за медпомощью по поводу каких‑то других болезней, его начали обследовать и выявили раннюю опухоль. Второй вариант – очень мнительные люди, чуть что бегущие к врачу, ну и третий, на мой взгляд, более правильный – те, кто раз в год или в два делают исследования, которые им когда‑то рекомендовали врачи, – по сути, вариант скрининга. Это относительно немногочисленная категория – в общей сложности около 15% – пациентов, у которых рак ранний и лечение которых очень благодатное дело. Не надо удалять орган или его часть, достаточно эндоскопом иссечь слизистую оболочку желудка и получить очень хороший результат. И тут в 98‑99% случаев можно говорить о полном излечении от рака желудка. Остальные, к сожалению, приходят на более поздних стадиях, когда ситуация другая, пятилетняя выживаемость существенно ниже и методы лечения более варварские. Требуется хирургическое вмешательство, которое можно выполнять традиционным путем, лапароскопически, при помощи хирургического робота. Но как бы то ни было, человек теряет часть желудка или лишается его вовсе. И есть еще пациенты так называемой серой зоны (калька с английского grey zone): это больные, которым технически можно выполнить локальное иссечение опухоли, сохранив качество жизни на прежнем уровне, но нет уверенности, что это приведет к излечению – не только потому, что опухоль глубоко проросла в стенку желудка и мы не можем удалить ее полностью, или распространилась по большой площади поверхности, но и потому, что могут быть метастазы, находящиеся вне возможности такого щадящего удаления. Одна из программ, которую мы разрабатываем (в чистом виде научная – ее нет в стандартах, но ее изучают во всем мире), – это концепция сигнального лимфатического узла. Например, при меланоме кожи и раке молочной железы она уже работает и в некоторых странах внедрена в стандарты. Но при раке желудка мы ее только изучаем, для этого требуются специальное оборудование и специальный краситель, срок регистрации которого, к слову, истек в декабре 2017 года, но мы его закупили много и, пока ждем регистрации, используем запас. Суть в том, что под основание опухоли вводится специальный лимфотропный краситель, который распространяется по лимфатическим протокам и узлам, и мы, применяя инфракрасный спектр света или лазерное воздействие, можем увидеть глазом, в какие лимфоузлы идет отток лимфы от опухоли, и можем удалить их (один, два или целую группу), а затем – внимательно исследовать под микроскопом для выявления возможного поражения их опухолевыми клетками. Таким образом, на сегодняшний день мы прооперировали больше 60 больных, и среди них были три пациента, которых, если бы мы сделали только эндоскопическую резекцию слизистой оболочки желудка, мы бы посчитали вылеченными. Ни эндоУЗИ, ни КТ не показывали нам, что есть метастазы в регионарных лимфоузлах. Применение этой методики позволило нам установить правильную стадию болезни и соответственно скорректировать лечение.
– Так насколько эффективно в мире и в России лечится рак желудка?
– Сейчас модно критиковать Россию и говорить, что с ней все не так, и часто с этим сложно спорить. Один из моих учителей – британский профессор Амжад Парваиз – говорил так: два хирурга между собой могут согласиться только в одном: насколько плох третий. Мы живем в эпоху доказательной медицины, при правильно спланированных многоцентровых рандомизированных исследованиях получаются выводы, их обсуждает профсообщество, затем они фиксируются в медицинских стандартах. Только это все как‑то не по‑русски. В России нет стандартов, которые были бы основаны на результатах собственных российских рандомизированных исследований, нет и быть не может, потому что нет таких исследований. Мы вот первые организовали и сейчас проводим первое многоцентровое рандомизированное исследование по колоректальному раку – COLD. Оно зарегистрировано на clinicaltrials.gov, в нем участвуют шесть крупных российских медицинских центров, на съезде Европейской ассоциации колопроктологов (EACP) в Берлине мы получили награду за лучшее исследование 2017 года. На всех этапах этого исследования – от разработки дизайна до организации мониторинговых визитов в участвующие в исследовании клиники – мы сталкиваемся с организационными и финансовыми проблемами, а подчас и с неспособностью клиники в целом соответствовать уровню заявленного исследования. Будем надеяться, что мы его завершим и тем самым сделаем очень важный концептуальный шаг для российской онкохирургии. Так вот, в стандартах, выработанных профсообществом на основе доказательной медицины, прописано, что, где и при какой стадии надо делать. Но профсообщество может дать какой угодно совет, а дальше встает вопрос: за чей счет банкет? Кто будет эти стандарты соблюдать и обеспечивать финансово? Те стандарты, что имеются у нас сейчас, – это перевод на русский язык компилированных рекомендаций американских, европейских или британских обществ онкологов (NCCN, ESMO и других). В них сказано: если глубина проникновения рака желудка больше, чем в подслизистый слой органа, или при подозрении метастазов в регионарных лимфоузлах, мы должны начинать лечение с предоперационной химиотерапии. А после операции – еще курсы химиотерапии. Если мы рекомендуем пациенту проходить химию по месту жительства, организаторы здравоохранения смотрят, есть такой стандарт или нет и есть ли под ним какое‑либо финансовое обеспечение. Но предлагаемая пациенту химиотерапия может быть зафиксирована лишь в клинических рекомендациях, а они необязательны для исполнения. И это задача уже организаторов здравоохранения – каким образом складывать выделяемые государством средства, чтобы купить на них и лекарственные препараты, и электроэнергию, и платить зарплату.
«БОЛЬНОЙ НЕ МОЖЕТ ОЦЕНИТЬ, ЧТО Я СДЕЛАЛ ВНУТРИ»
– Оставим в стороне химиотерапию. В хирургии есть однозначное понимание, что делать с опухолями желудка?
– Я бы хотел ответить «да», но это будет не совсем правдой. Другой вопрос, что и за границей мало качественной хирургии. Эталонного хирурга не существует, но за рубежом есть определенные стандарты. И конкретно наша проблема состоит в том, что в России не существует отработанной системы подготовки хирургов. Если молодой хирург оказался там, где есть возможность научиться, – он научится. Хотя мотивация учить есть не у всех. Вроде бы ситуация улучшается, создаются тренинговые центры – в Москве и у нас, в НМИЦ онкологии им Н.Н. Петрова. Но это не полноценные программы с нуля и до приемлемого уровня. Мы берем уже опытных хирургов и показываем им детали. Мы являемся экспертным центром в стране, а в ближайшее время, надеюсь, и во всей Восточной Европе. В этом полугодии у нас шесть‑семь курсов, где мы рассказываем приезжающим к нам специалистам о результатах последних научных исследований, спорных моментах, как технически проводить лапароскопические и открытые вмешательства, в чем преимущества каждого метода. Сейчас пошла мода: если хирург делает операцию лапароскопически, значит он крут. Но это же неправда. Мы стараемся донести до широкого круга специалистов нашу позицию, и она заключается в следующем: в задачи хирурга входит обеспечение двух вещей – безопасности пациента и правильного объема операции. Если этих целей можно достигнуть с нанесением минимальной травмы, выполняя лапароскопическое вмешательство, чтобы обеспечить человеку меньше болевых ощущений, раннюю активизацию, лучший косметический эффект, значит, это надо делать. А если две эти задачи в ходе планирования операции или при ее выполнении обеспечить не получается, то стараться во чтобы то ни стало оперировать лапароскопически – это уже подмена понятий. Все ради того, чтобы сказать: а у меня больше, а я круче. Все как всегда. А здесь очень важно быть честным. Нельзя быть чуть‑чуть беременной, так же и с честностью.
– Какова доля лапароскопических вмешательств при раке желудка?
– С двух сторон нужно смотреть. Если мы вернемся к доказательной медицине и посмотрим последние стандарты в любой развитой стране, то увидим: диагностическая лапароскопия за редким исключением везде в стандарты включена. Ситуация, когда хирург разрезал, посмотрел и зашил, сказав, что ничего нельзя сделать, в ХХI веке не должна реализовываться. Это прошлый век, так быть не должно. «Хирург рискнул» – это красивая фраза, но надо понимать, что хирург рискует не собой. Легко рисковать чужим здоровьем и чужой жизнью. Диагностическая лапароскопия при раке желудка является последним этапом стадирования опухоли и позволяет разработать правильную стратегию лечения. В России лапароскопическая диагностика не везде применяется. Это проблема, связанная как с материально‑техническим обеспечением, так и с традициями. Не так трудно внедрить новое, как изменить стереотип. Вторая часть – лапароскопические вмешательства, направленные на излечение больного. Если мы посмотрим на пионеров методики – Японию и Корею, то и там в стандарты внедрено лапароскопическое удаление опухоли только на ее ранних стадиях и только в случае частичного удаления желудка. Все остальное – в клинических исследованиях, после одобрения этическим комитетом и обоснования категории подлежащей такому лечению больных. Местнораспространенный рак нигде не фигурирует. Но у нас есть хирурги, делающие всем только лапароскопические операции. В мире нет пока доказательств, что это безопасно для больных и не уступает открытой хирургии. Хочешь так делать? Разработай протокол, подай его в этический комитет, предоставь больному информацию, что это неисследованный режим и мы ожидаем результатов в виде улучшения того‑то и того‑то, полноценную информацию – пусть больной подумает и примет решение. Но ему не предлагают альтернативу. И я, как член правления Общества эндоскопических хирургов, всем говорю: есть стратегия, тактика – и не надо их подменять технологией. Хотя вполне возможно, что придут исследования, которые докажут эффективность и преимущества лапароскопических резекций желудка и гастроэктомий, но пока я не понимаю, как можно использовать их рутинно, не предупреждая больных о недостаточных доказательствах.
– Лапароскопия популярнее, но ведь и дороже?
– Смотря что и как считать. Если по стоимости использованных инструментов и материалов, вполне возможно, дороже. Но если вы посчитаете комплексно – сколько дней больной находится в стационаре, сколько койко‑дней выиграно лапароскопией, насколько раньше пациент вернулся к труду, насколько меньше процент осложнений, лечение которых всегда очень дорого, то окажется, вероятно, что и дешевле. Но нужны сравнительные данные. В США койко‑день стоит безумных денег, и там, если ты сократил пребывание пациента в палате на день, ты уже выиграл в деньгах, но какова в России стоимость койко‑дня и эффективности? Слава богу, в нашем центре нет проблем с оборудованием и инструментами. Надо спросить нашего директора, как он умудряется это делать. Вот при раке ободочной кишки использовать в наше время открытую хирургию, на мой взгляд, просто кощунственно, поскольку преимущества лапароскопической хирургии очевидны, а онкологические результаты идентичны по сравнению с традиционной открытой хирургией. Почему, например, молодой женщине не сохранить красивый живот после операции? Кроме того, если мы зашли лапароскопом в брюшную полость и увидели, что не сможем безопасно и адекватно провести такую операцию, то у нас есть возможность продолжить открыто. Но если мы сделали большой разрез и увидели, что все можно было сделать малоинвазивно, уже глупо закрывать, преимущества малоинвазивной операции реализованы уже не будут. При раке желудка нам нужны доказательства, что результаты лапароскопических операций с точки зрения безопасности лучше или как минимум идентичны таковым при открытой хирургии, общие преимущества лапароскопии понятны. Больной не может оценить, что я сделал внутри. Он меня оценивает по трем вещам: нахамил я ему или нет, было ему больно или нет, красивый шов или нет. В США врачи работают под прессом судебных издержек – люди везде одинаковы. Этот процесс набирает обороты и у нас в стране. Вопрос качества хирургии очень серьезный. Чтобы не было смертей, я просто должен перестать оперировать, брать легкие случаи или халтурить с объемом, занижая его. Поэтому очень часто «диванные» эксперты боятся показать свою работу.
«МЫ ОПЕРИРУЕМ, НО ОБЪЕКТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕ ВИДИМ»
– Где в России, на ваш взгляд, хорошо оперируют рак желудка?
– Патология эта очень частая, оперируют много и хорошо во многих местах. Я часто езжу по стране с лекциями и показательными операциями и вижу это. Мне очень нравится наш институт, конечно, и московская 62‑я больница. Вопрос, где подходят к лечению комплексно. Для рака желудка и других солидных опухолей хирургия была, есть и еще долгое время будет основным методом лечения. Но, к сожалению, не единственным. Если мы вырвем хирургию из общей концепции – не будем понимать стадию опухоли, вероятность прогрессирования и так далее, результаты лечения будут хуже на круг. Не в два раза, конечно, но существенно. Вторая проблема – у нас нет регистров. Мы не можем сравнивать результаты друг друга, потому что все имеющиеся электронные истории болезни – это полуфабрикат. Мы пытаемся их создавать, это долгий путь, но мы придем к тому, что есть в Европе, когда ты можешь посмотреть данные в другой клинике и в той, где ты сам работаешь, и выяснить, лучше или хуже твои показатели.
– Вы собираетесь создать такой регистр?
– Я бы не ввязывался в этот проект, если бы имеющиеся электронные истории болезни позволяли мне отслеживать судьбу пациентов. Но дожидаться, пока регистры как‑нибудь сами появятся, тоже не могу. Мы сделаем свой регистр – за счет энтузиазма и привлечения спонсорских средств, я найду человека, который будет заниматься только регистром и follow up, следить за системой оповещения больных. Пошлет нас респондент к черту, о’кей, мы отметим, что пациент не захотел отвечать на вопросы. Сейчас мы оперируем, спорим, но объективного результата не видим.
– Этот регистр вы будете делать только по НМИЦ или шире – по Петербургу, Ленобласти, на весь Северо‑Запад?
– Я бы очень хотел, чтобы он работал по всей стране, но прекрасно понимаю, что это невозможно. Хотя бы из‑за того, что начнется «у меня лучше», «а я не буду пользоваться», «а почему он главный». Пусть все создают регистры, пусть их будет несколько. У нас в отделении он будет, предложу сообществу – я много езжу, выступаю, буду его показывать, открывать. Вам какая цифра нужна – узнать, сколько у меня было осложнений? Пожалуйста! Сколько больных я пронаблюдал? Вот. Начнем работу в нашем центре. В XXI веке уже не нужно ничего изобретать, все сделано за нас. У меня в Ставрополе есть друг – Бекхан Хациев [заведующий хирургическим отделением Клиники эндоскопической и малоинвазивной хирургии СтГМУ. – VM], который занимается хирургией ожирения и создал бариатрический регистр. И ввел его через Общество бариатрических хирургов, а дальше все просто: на конференцию хочешь поехать при поддержке какой‑то компании – никаких проблем, ах, ты в регистре не участвуешь, так ты – несерьезный врач, куда тебя везти? Ты говоришь, у тебя лучше – покажи свои цифры. Мы все на словах орлы.
– А создавать регистр за чей счет будете?
– Пока за свой. Я встречался с представителями нескольких компаний – на титульной странице регистра может стоять надпись, что он создан при их поддержке, и мы будем всячески это подчеркивать, создавать репутационные преференции нашим потенциальным спонсорам. Пока только одна компания поддержала наше начинание, и пока только на словах. Мы бы хотели иметь легальный контракт на создание и сопровождение программы. Нам, онкологам, очень нужны и регистр, и клинические исследования, но последние – это баснословные деньги, порядка $3 млн. Такие деньги никто не выделит. Их могут осилить только крупные фармпроизводители, которые потом включат свои траты в цену препарата. Наше исследование коммерческой составляющей не имеет. Для получения статистически достоверных результатов в исследование COLD мы должны включить 786 пациентов, каждые три месяца после операции каждому пациенту мы должны выполнить контрольные КТ, МРТ, наблюдение. Наш Минздрав такие исследования не поддерживает. Мы нашли спонсора, который готов частично компенсировать издержки, но пока опять‑таки все находится на уровне устных договоренностей, поскольку механизма перечисления средств и отчетности нет. А регистр – гораздо дешевле, это поддержание работы программы, зарплата двух программистов. Когда КИ проводят фармкомпании, все понятно – есть таблетка, есть человек. Рассчитали массу тела, дали таблетки. А в хирургии трудно стандартизировать – как сделали операцию, какими инструментами, кто сделал. Вы взяли два центра и сравниваете круглое и зеленое. Хирургические исследования сложно организовать – нужно привлекать много центров, чтобы размыть эту разницу. А раз большое число людей, значит, хорошо оперирующих – небольшое.
«ШЛА ВОЙНА – НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ»
– Какие данные необходимо заносить в регистр?
– Зависит от того, какие задачи преследует регистр, по сути, это сбор объективной информации, достаточной для того, чтобы мы могли провести анализ. Если мы правильно продумаем создание регистра, то и программисту поставим правильную задачу – он оперирует ноликами и единичками, ему совершенно все равно, он считает. Поставить задачу – наш интеллектуальный труд, программисты исполнят наши желания. Наша цель – получить информацию, которая будет интересна клиницистам. Не экономистам, не эпидемиологам, не еще кому бы то ни было. Нельзя сделать универсальный регистр, мы должны «заточить» его под клинические нужды – чтобы мы понимали, что используем такую‑то методику, какова «цена» этой методики, каково число послеоперационных осложнений и летальность, какова продолжительность жизни после той или иной операции. Мы уже полгода думаем, составляем варианты. Сначала сделаем пилот, столкнемся с проблемами, поймем, где что не работает, и будем исправлять. Мы нацелены на долгую работу, поэтому нам нужно сопровождение программистов.
– А у европейцев как действуют регистры?
– У них, как правило, эти базы собираются под конкретную проблему. Например, по концепции watch and wait (концепция лечения рака прямой кишки без операции) создан отдельный регистр, в который подают данные все центры, участвующие в исследовании, чтобы максимально быстро набрать статистически значимое количество для обсчета. Существуют канцер‑регистры, занимающиеся популяционными вопросами. А так – есть запрос на получение информации, под него формируется регистр. Мы напишем то, что верно на наш взгляд, если удастся убедить медицинскую общественность, тогда они к нему подключатся. Нет – будем совершенствовать или кто‑то предложит другой продукт, тогда мы не будем изобретать велосипед и подключимся к ним. Чего я не хотел бы делать, так это выступать под эгидой какого бы то ни было главного специалиста, министерства, это сразу становится неповоротливым и трудноуправляемым. Но если ты хозяин, то несешь бремя ответственности и реагировать на меняющиеся потребности можешь оперативно.
– Кроме создания регистра вы участвуете в большом количестве образовательных проектов и мастер‑классов. Это приносит результат?
– Приведу вам пример: меня пригласили в один из городов страны на операцию. Я должен был лететь в этот условный город N из города S, где был в другой командировке. Но дорога возможна только через Москву. Я прилетел в Москву в восемь вечера, дождался пересадки и ночью должен был вылетать в город N, где в девять утра начиналась показательная операция. Я сажусь в самолет, разгон, а потом резкое торможение, мы возвращаемся в аэропорт, где говорят, что борт будет в семь утра. Я звоню главврачу, объясняю ситуацию, мы ищем другие рейсы на сегодня, а их нет. В итоге я беру такси и еду 700 км, машину носит, она с летней резиной, поспать невозможно. Я добрался туда в полшестого утра, пока заселился в гостиницу, было полседьмого, попросил заведующего задержать операцию на час, чтобы вздремнуть хоть немного. И вот прихожу в операционную, а там стоят три зевающих хирурга, которых туда загнал главный врач, решивший, что он одним приказом сможет изменить процесс. У меня вопрос: зачем это? Если тебя ждут с нетерпением, ты видишь интерес, ты готов это сделать. Но ты проделываешь весь этот путь и видишь, что никому ничего не надо, просто главврач решил что‑то внедрить и попросил у компании «звезду». К чему я это рассказываю? Мало, чтобы позвали, нужно, чтобы звали те, кто действительно хочет научиться. Дурак с инструментом все равно дурак, какое бы ни было у него оборудование, оно будет железом. Da Vinci, суперсовременная 3D‑стойка, обычный скальпель – без умения этим работать все бесполезно. Томографы стоят в каждой поликлинике, но если человек неправильно интерпретирует данные, это деньги на ветер.
– Свою работу в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова вы с таким же настроением начинали?
– Это очень сложно было, шла война – не на жизнь, а на смерть. Заведующий одним из наших диагностических подразделений, где поначалу мы постоянно встречались с ошибочными и неточными заключениями, просто сворачивал в любой ближайший кабинет, если видел, что я иду по коридору. А я – за ним: «Подожди‑подожди, куда ты? Вот тут опять расхождения!» Потом пришли молодые ребята, мы смогли их заинтересовать и, наконец, связать весь процесс воедино. В случае расхождения каких‑то их данных с операционными они приходили в операционную – смотрели, как органы выглядят вживую, что нам от них нужно. Писали заключения, потом мы отдавали это морфологам, смотрели под микроскопом, если находили расхождения – опять связывались с рентгенологами, те смотрели, как выглядит препарат. Потом в свободное от работы время мы эти препараты опять прогоняли через КТ и МРТ, чтобы все видели, как это выглядит. Когда делают томографию и я читаю заключение специалиста, то я принимаю решение на основании этого текста – если текст написан ошибочно, то я, как хирург, приму ошибочное решение. Они сделали КТ, написали много букв, все. Они не стоят на трибуне, если больной умер, но от их заключения очень многое зависит. Потом к нам в центр пришел Олег Ткаченко [заведующий отделением эндоскопии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. – Vademecum] и привел с собой молодую команду, и мы стали получать другие результаты, которыми я полностью удовлетворен. Олег работал всего пару недель, когда мне от него что‑то впервые понадобилось. Отправился к нему уже вечером, после работы – кабинет закрыт, но свет горит. Постучал – не открывают, ну, думаю, ладно. Пошел обратно, навстречу – девочка‑эндоскопист, я спрашиваю: «Где Олег?» Она отвечает: «У себя в кабинете». Я вернулся, постучал в дверь настойчивее, наконец он, недовольный, открывает. Вижу, у него на столе лежит курица – из холодильника магазинного, и в нее воткнут эндоскоп. Я спрашиваю: ты что делаешь? А он говорит: понимаешь, нет какого‑то дорогостоящего оборудования, я пытаюсь шить обычным эндоскопом. Говорю: подожди, не уходи. Вышел и позвонил директору: «Алексей Михайлович, могли бы вы подойти в отделение?» Заходим тихонько в кабинет к Ткаченко уже вместе с директором – Олег все это время сидит, в курице ковыряется. Говорю: «У вас еще какие‑то вопросы остались, брать его на работу или нет?» Вот Олег – как раз из тех, кто фанатично увлечен своим делом, очень грамотный. И года через два после того, как собралась такая команда, стали появляться первые результаты. Точкой отсчета, наверное, можно назвать 2014 год, но закончить эту историю нельзя, нужно постоянно идти.
Источник: https://vademec.ru/article/beru_v_pritsel_vraga_v_vide_konkretnoy_opukholi/